Мой солдат Победы
- 4 мая 2017 г.
- 4 мин. чтения
Апатиты. В преддверии одного из самых важных праздников в истории нашей страны, Дня Победы, Центральная городская библиотека сделала подборку рассказов апатитчан о непростых и очень интересных судьбах их родных – участников и очевидцев Великой Отечественной войны. «КР» публикует некоторые из этих историй и воспоминания апатитчанина, пришедшего в нашу редакцию.
Счастливое возвращение
Начало войны застало моих предков не дома. В то время дед Модест и бабушка Маша возили баржей по реке лес. Когда началась война, они были в Кронштадте вместе с сыновьями. У деда была бронь, так как речники выполняли оборонные заказы и могли не воевать. Но дед на фронт пошёл сразу же. В 1942 году он принимал участие в Ржевской битве.
Собственно, Ржевская битва – это условное понятие, объединяющее четыре отдельные наступательные операции, проводимые войсками Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр», на Ржевско-Сычевско-Вяземском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943-го. Это были страшные бои, с огромными потерями с обеих сторон.

В памяти народа эти битвы остались под названием «ржевская мясорубка». Общие потери Красной Армии, только по официальным данным, превысили миллион человек. Дед Модест был сержантом и командовал отделением пехоты. А бабушке Маше пришлось добираться с тремя маленькими детьми из Кронштадта домой, в деревню в Вологодской области.
Зимой 1942 года бабушке пришла похоронка на мужа. В связи с этим в нашей семье есть ещё одна история, просто-таки мистическая. Получив похоронку, бабушка стала жить дальше – работать, растить сыновей и оплакивать погибшего мужа. Как-то раз перед сном она помолилась перед иконой, которая висела в углу, зажгла лампаду и легла спать. Во сне к ней пришла её покойная мать, которая сказала: «Маша, у тебя икона сейчас загорится. Твой муж жив, жди». Проснулась бабушка и видит: лампада упала, и язычки пламени подбираются к иконе…
Через некоторое время от деда пришло письмо. Оказалось, что в боях под Ржевом осколками снаряда ему ранило ноги. После боёв похоронный отряд собирал погибших, и окровавленного, без сознания, деда приняли за мёртвого. Его и сложили среди тел убитых и записали как погибшего. Спустя время кто-то заметил, что на «убитом» тает снег… В санитарном поезде, который вёз раненых в Омск, деду Модесту пришлось ампутировать правую ногу. Резали обычной пилой, без наркоза – дав ему выпить стакан спирта.
Оказавшись в госпитале Омска, дед и отправил бабушке Маше весточку. А вскоре и сам вернулся, исхудавший до 47 килограммов. Дедушка Модест очень мало говорил о войне. Не любил он этих разговоров. Но, видимо, когда страшные воспоминания не давали ему покоя, записывал их химическим карандашом в тетрадь. К огромному сожалению, эта тетрадь не сохранилась.
Юлия Рогозина
Искать не переставали
Мой отец, Воробьёв Иван Егорович, закончил среднюю школу в 1941 году и скоро был мобилизован. Прошёл всю войну, был ранен, горел в танке. Закончил войну в Будапеште. Он рассказывал, что с самой большой радостью нашу армию встречали в Югославии. Тогда ему повезло – из его сверстников, рождённых в 1923 году, домой вернулись единицы.
Но фронтовые лишения дали о себе знать, и он умер в 48 лет. Мама моя столько потерь перенесла в своей тяжко работавшей и голодавшей крестьянской семье! В войну погибли её 50-летняя мама, старшая сестра, маленький племянник, невестка, которая «обомлела» и скончалась после объявления о войне по радио. И ещё одна тяжёлая потеря – её любимый старший брат Серёжа. Простой сероглазый парень с пышным чубом и приятной улыбкой. В 16 лет он пошёл работать на авиационный завод в Воронеже.

Мама помнит, как в семье тогда появилась радость – буханка покупного хлеба каждый день. С начала войны авиационный завод стал выпускать военные самолёты, и всем рабочим дали бронь – освобождение от воинской повинности. Но Серёжа и двое его друзей записались в армию добровольцами. Мама помнит, как они ходили из дома в дом с гармошкой, прощались, смеялись, говорили, что скоро вернутся с победой. Воевал он под Смоленском пулемётчиком.
Тем же летом 42-го от него перестали приходить письма. Потом была эвакуация, совсем юная мама гнала колхозных коров за 200 километров в тыл. Через три месяца люди вернулись назад, в разорённые места, по которым прошёл фронт. Брат же пропал без вести. Односельчанин написал, что видел его, идущего в медсанбат с перебитыми руками, но на этом следы его потерялись.
Дяде Серёже так и осталось 18 лет. Мы шесть раз делали запросы в военные архивы, но ответы были: «не значится». И вот, только в 2009 году сестра обратилась через Интернет и получила запоздавшую весть, что Паршин Сергей Фёдорович умер в госпитале 31.07.42. И снова было горе – читать сухие перечисления, как он был искалечен. Теперь мы знаем название деревни, где он похоронен: Усадица Смоленской области, а потом был перезахоронен в деревне Барсуки. Это братская могила, в которой лежит много юных парней и мужчин, чьих-то оплаканных братьев, сыновей, мужей и возлюбленных.
Н.И. Николаева
Горькая память
Память цепко удерживает воспоминания о событиях войны, которые пережил я, тогда шестилетний малыш из большой семьи спецпереселенцев: отец вместе с матерью и тремя детьми как кулацкая семья были высланы в 1931 году из Курганской области в Хибиногорск, где в 1935 году родился я.
Июнь 1941 года. Немецкие самолёты бомбят Кировск и расстреливают рабочий посёлок Апатитовая гора (ныне Кукисвумчорр). Матери с детьми бегут в рудничный тоннель, чтобы переждать налёт. Начинается эвакуация детских учреждений по железной дороге в сторону Урала.

Лето 1944 года. В ожидании скорой победы моя мать вывозит меня и соседскую девочку из Удмуртии. Под Кандалакшей наш поезд попал под бомбёжку вражеских самолётов: пассажиры в панике едва не разбежались из вагонов, но их сумел остановить опытный военный. В июне 1945-го пришла похоронка на старшего брата Петра, он погиб в апреле 44-го в деревне Седлище Волынской области. Зато в сентябре 45-го из саратовского эвакогоспиталя вернулся средний брат Николай, там его подняли на ноги после тяжёлого ранения в голову в боях за Литву.
Награждённого медалью «За отвагу», как и других фронтовиков, его без экзаменов приняли на учёбу в Кировский Горный техникум. Наш отец Семён Максимович Коробейников из спецпоселения освободился только в 1947 году, за год до смерти. Как выяснилось, он был награждён медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией». За что он, спецпереселенец – по сути, бесправный человек, их получил, так до сих пор неизвестно.
Леонид КОРОБЕЙНИКОВ,
пенсионер
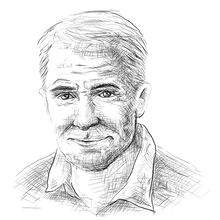



Комментарии